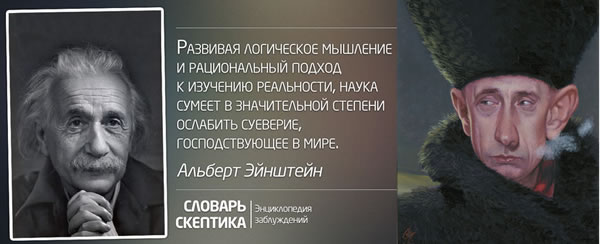
Участники международного эксперимента LIGO 11 февраля сообщили на специально созванной пресс-конференции о первой в истории человечества регистрации гравитационных волн. Сами волны дошли до Земли из далекого космоса еще несколько месяцев назад – в сентябре 2015 года, но ученым понадобилось время на то, чтобы качественно обработать независимо полученные двумя установками очень слабые сигналы и убедиться в том, что они не связаны с посторонним шумом. Теперь сомнений не осталось.
Гравитационные волны были предсказаны в рамках общей теории относительности Альберта Эйнштейна 100 лет назад, в 1915 году. Эйнштейн дал строгое математическое описание того, как гравитация влияет на ткань пространства-времени, и из его теории следовало, что любой неравномерно движущийся и обладающий массой объект провоцирует искажения пространства-времени, которые распространяются в виде волн. Эти волны стали называть гравитационными. Из теории было известно, что они невероятно слабы. Но какой-то, хотя все равно мизерный, шанс оказаться замеченными был у волн, вызванных очень массивными космическими телами, такими как черная дыра, а лучше пара быстро вращающихся друг вокруг друга и постепенно сближающихся черных дыр. Именно это и произошло. Обсерватория aLIGO с помощью двух сверхчувствительных лазерно-оптических детекторов (интерферометров) зафиксировала гравитационные волны с амплитудой порядка 10 в минус 21 степени. По некоторым особенностям полученного сигнала ученые выяснили, что они были порождены слиянием двух черных дыр с массами в 29 и 26 солнечных, которое произошло примерно в 1,3 миллиарда световых лет от нас.
Оставляя в стороне вопрос практического и научного значения этого события, стоит задуматься о смелости мысли человека, предсказавшего явление природы, для открытия которого человечеству потребовался целый век технологического прогресса.
Радио Свобода вспоминает другие примеры невероятных теоретических прозрений и их ярких экспериментальных подтверждений, случившиеся в минувшие сто лет.
Затмение Эддингтона
Сэр Артур Эддингтон, британский астроном, физик и математик, был среди первых энтузиастов и популяризаторов общей и специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, которая многим современникам знаменитого ученого казалась лишь смелой идеей, не имеющей никакого отношения к реальности. Будучи секретарем британского Королевского астрономического общества, Эддингтон в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, получил копию статьи Эйнштейна (ученого из вражеской Германии!), одним из первых разобрался в нетривиальных математических выкладках, осознал важность новых идей и занялся их распространением на Британских островах. Эддингтон был известен умением объяснять теорию относительности на понятном для более широкого круга ученых языке. Согласно историческому анекдоту (он приведен в книге Уолтера Айзексона “Эйнштейн: его жизнь и его Вселенная”), на заседании Королевского общества в ноябре 1919 года Эддингтон в очередной раз рассказывал о новой теории, и после выступления к нему подошел физик Людвиг Зильберштайн, считавший себя большим специалистом в идеях Эйнштейна. “Похоже, на свете есть всего три человека, понимающих теорию относительности”, – с сочувствием заметил Зильберштайн. Эддингтон промолчал. “Ну что же вы, не стесняйтесь, один из них вы”, – воскликнул Зильберштайн. “Я знаю. Я просто никак не могу вспомнить, кто же третий”, – ответил Эддингтон.
Но главный вклад британского ученого в развитие теории относительности был в том, что он поставил первый эксперимент, подтвердивший некоторые предсказания Эйнштейна. В 1918 году Эддингтон и британский астроном Фрэнк Дайсон решили организовать экспедицию на остров Принсипи, находящийся почти на экваторе возле атлантического побережья Африки. Эта точка была выбрана таким образом, чтобы лучше наблюдать за полным солнечным затмением 29 мая 1919 года.
Идея была в том, чтобы проверить предсказание теории Эйнштейна – массивное Солнце должно отклонять проходящий рядом с ним свет звезд. На практике этот эффект можно заметить во время солнечного затмения, проверив, насколько изменяется положение близких к солнечному диску звезд (речь, разумеется, о проекциях). Затмение 1919 года предоставляло особенно удобную возможность, так как Солнце располагалось на фоне яркого звездного скопления Гиады. Эддингтон успел сделать 16 фотографий, в основном не слишком удачных из-за то начинавшегося, то перестававшего идти на острове дождя. Однако с помощью специальных расчетов удалось получить отклонение положения звезд, достаточно близкое к тому, что предсказывала общая теория относительности и далекое от предполагаемого классической механикой. Параллельно близкие результаты были получены второй экспедицией, направленной Эддингтоном в город Собрал в бразильских джунглях Амазонки.
Эти результаты были получены далеко не сразу: фотопластины нужно было доставить в Лондон и проявить, а полученные данные обработать. Эйнштейн знал об эксперименте, но на людях делал вид, что не особенно волнуется о его результатах. Впрочем, 5 сентября 1919 года он писал больной матери такие строки: “В эту зиму буду сильно дрожать. До сих пор нет новостей о затмении”. Долгожданные вести пришли только 22 сентября, когда Лоренц телеграфировал Эйнштейну результаты эксперимента Эддингтона. Некоторое время спустя, проводя занятие с аспиранткой Ильзой Шнайдер, Эйнштейн показал ей телеграмму Лоренца. Шнайдер пришла в восторг, но сам ученый был совершенно спокоен: “Я знал, что теория правильна», – сказал он. «Но что, если бы эксперименты ее не подтвердили?” – воскликнула аспирантка. На это Эйнштейн ответил фразой, ставшей впоследствии знаменитой: “Тогда мне было бы жаль Господа Бога”.
Эксперимент Эддингтона был слишком несовершенен, чтобы окончательно закрыть вопрос о состоятельности общей теории относительности, но его оказалось достаточно, чтобы в целом убедить научное сообщество. Позже и специальная и общая теории относительности были проверены опытами не раз, так что открытие предсказанных Эйнштейном гравитационных волн скорее стало подтверждением того, что человечество, наконец, достигло определенного технологического прогресса в создании научных приборов.
Полтергейст из реактора
В конце 1920-х годов в физике сложилась скандальная ситуация: под вопросом оказался один из самых фундаментальных законов природы – закон сохранения энергии. Еще в 1914 году эксперимент по наблюдению так называемого бета-распада нестабильных ядер (например, тяжелейший изотоп водорода, тритий, испуская электрон, превращается в гелий-3) показал, что вылетающие каждый раз электроны имеют энергии, принимающие любые значение в достаточно широком диапазоне. С другой стороны, положения квантовой механики, разработанной в 20-е годы, утверждали, что при каждом конкретном бета-распаде кинетическая энергия вылетающих электронов должна быть одинаковой. Другими словами, вопреки теории, электроны куда-то теряют часть своей энергии, вот только куда?
Дело дошло до того, что некоторые ученые всерьез заговорили об отказе от закона сохранения энергии – среди них был даже великий Нильс Бор. Но 4 декабря 1930 года молодой, но уже авторитетный швейцарский физик Вольфганг Паули обратился к собравшимся на конференции в Тюбингене коллегам с открытым письмом. По его тону чувствовалось, что Паули не совсем уверен в том, что пишет, и готов превратить все в шутку. Начиналось письмо словами: “Дорогие радиоактивные дамы и господа!”.
Паули писал, что предпринял “отчаянную попытку спасти […] закон сохранения энергии”. Он предположил, что в атомных ядрах существует еще один, до сих пор не открытый вид частиц, которые он назвал “нейтронами”. В процессе бета-распада эти “нейтроны”, по мнению Паули, могут уносить с собой недостающую часть энергии. “Я признаю, что такой выход может показаться на первый взгляд маловероятным… Однако, не рискнув, не выиграешь; серьезность положения с непрерывным β-спектром хорошо проиллюстрировал мой уважаемый предшественник г-н Дебай, который недавно заявил мне в Брюсселе: “Об этом лучше не думать вовсе, как о новых налогах […] Прошу вас, дорогие радиоактивные друзья, обсудите предложенный мной вариант и придите к верному решению. К сожалению, сам я не смогу появиться в Тюбингене, так как обязан быть на балу в Цюрихе в ночь с 6 на 7 декабря”, – закончил свое послание 30-летний швейцарец.
Предсказанные Паули “нейтроны” со временем стали назваться нейтрино, название “нейтрон” закрепилось за другими частицами. Было ясно, набором каких общих свойств они должны обладать, и самым неудобным из них была очень слабая способность нейтрино взаимодействовать с другими частицами. Это означало, что обнаружить новые частицы экспериментально будет чрезвычайно сложно – ведь в основе любого прямого наблюдения лежит взаимодействие с какими-то частицами. Нейтрино легко пролетают насквозь любую материю, почти не задерживаясь внутри. На их “поимку” ушло 26 лет, и для нее понадобился, ни много ни мало, мощный ядерный реактор.
Американский физик Фредерик Райнес был одним уз участников Манхэттенского проекта – работа молодого ученого была связана с испытаниями первых образцов американского ядерного оружия на островах в Тихом океане. Позже Райнес вспоминал, что руководители проекта не мешали ученым придумывать себе побочные чисто научные задачи, работать над которыми можно было параллельно с испытанием бомб. В частности, все понимали, что взрыв ядерной бомбы представляет собой источник высокоэнергичных частиц разного вида, в частности, нейтронов и гамма-лучей, который не получилось бы искусственно создать другими способами. Более того, теория предсказывала, что цепная реакция должна сопровождаться коротким, но мощным выбросом антинейтрино – парных к нейтрино частиц. Экспериментальная регистрация антинейтрино означала бы, что в природе существуют и сами нейтрино.
В 1951 году, после очередного успешного испытания на атолле Эниветок, Райнес задумался о возможности использовать атомный взрыв для создания настолько мощного пучка антинейтрино, что хотя бы несколько из них удастся зафиксировать в огромном, в несколько тонн весом детекторе. Райнес смог увлечь идеей коллегу по теоретическому отделу Манхэттенского проекта, Клайда Коуана. Физики договорились с руководством о том, что некоторое время поработают над чисто научными задачами, и приступили к своему проекту “Полтергейст” – именно этим словом часто называли в шутку нейтрино. Изначально эксперимент должен был выглядеть так: на верхушке 30-метровой вышки устанавливается атомный заряд мощностью 20 килотонн. В 40 метрах от основания вышки вырыта примерно 50-метровая штольня, в середине которой помещена емкость, содержащая несколько тонн специальной жидкости. Бомба взрывается, поток антинейтрино проходит через жидкость детектора, некоторые из частиц вызывают реакцию обратного бета-распада, и эти события регистрируются датчиками. В своих воспоминаниях Райнес писал: ”Любой, кто плохо знаком с эффектами ядерного взрыва, побоялся бы ставить эксперимент так близко от бомбы, но мы обладали в этом отношении неплохим опытом. […] Мы вернемся на место взрыва через несколько дней, когда радиационный фон на поверхности значительно снизится, откопаем детектор, снимем показания датчиков и узнаем правду о нейтрино!”.
Работы шли полных ходом, на полигоне в пустыне Невада уже готовилась шахта для будущего детектора. Однажды вечером Райнес и Коуан обсуждали свои планы с руководителем физического департамента Манхэттенского проекта, Дж. М.Б. Келлоггом. “А почему бы вам не воспользоваться ядерным реактором вместо бомбы?” –предложил последний. Поток частиц от реактора намного слабее, чем при взрыве бомбы, зато взрыв длится мгновение, а реактор работает постоянно. “Вместо того, чтобы регистрировать единственный пучок нейтрино, прекращающийся через секунду или две после ужасного ядерного взрыва, мы могли бы спокойно сидеть возле реактора и ловить по одной частице раз в несколько часов. А следить за реактором можно сколько угодно – хоть месяц, хоть год”, – вспоминал Коуэн.
Полтора года ученые готовили новый, 300-литровый нейтринный детектор, который получил имя Herr Auge (“Господин глаз” по-немецки), а весной 1953 года загрузили все оборудование в два грузовика и отправились в город Хэтфорд в штате Вашингтон, где располагался мощнейший на то время ядерный реактор, созданный для производства оружейного плутония. К сожалению, несколько месяцев экспериментов так и не привели к успеху. Физикам никак не удавалось хорошо экранировать детектор, и установка регистрировала множество частиц, в том числе космические лучи. На фоне такого шума достоверно уловить сигнал нейтрино было невозможно.
Следующие два года ушли на создание более совершенного детектора. За это время был запущен новый, более мощный реактор на реке Саванна в Южной Каролине, и в 1955 году эксперимент переехал туда. От “лишних” частиц, вылетающих из реактора, детектор отделили стеной из бетона толщиной в 11 метров, от космических лучей – крышкой толщиной в 12 метров. И это сработало. За следующие пять месяцев и 900 часов работы реактора команде удалось набрать достаточную статистику столкновений, чтобы с уверенностью заявлять – полтергейст пойман, детектор зарегистрировал загадочные нейтрино. Райнес рассказывал, что телеграмма об этом событии была отправлена в ЦЕРН, где тогда работал Вольфганг Паули. Паули прервал заседание и зачитал сообщение. “Позже мы узнали, что Паули с друзьями выпили ящик шампанского в честь этого события. […] Через много лет студент Паули прислал нам копию письма, написанного ночью в 1956 году, которое никогда не было нами получено: “Спасибо за сообщение. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Паули”, – рассказывал Райнес.
В 1995 году Фредерик Райнес получил за свое открытие Нобелевскую премию. Его коллега Клайд Коуан умер в 1974 году.
Частица Бога
Сложно поверить, что одна из основных целей строительства крупнейшей и самой дорогой в мире научной установки, Большого адронного коллайдера, было обнаружение невообразимо крошечного бозона Хиггса.
Существование этой частицы одновременно и независимо предположили в середине 1960-х годов несколько ученых, в числе которых был и шотландец Питер Хиггс. В то время физики искали объяснение вопросу, который кому-то мог бы показаться наивным: почему у некоторых элементарных частиц есть масса. Для объяснения этого фундаментального свойства материи было предложено несколько теорий, одна из которых требовала существования специальной частицы, относящейся к классу так называемых бозонов. Эта частица получила имя Питера Хиггса, в основном потому, что он с наибольшим успехом продвигал свою теорию в научном сообществе и смог убедить физиков, что она перспективна.
Если про нейтрино было понятно, что они очень слабо взаимодействуют с другими частицами и легко пролетают насквозь любой детектор, то с новым бозоном были свои сложности: теория предсказывала, что он очень нестабилен и почти мгновенно распадается на другие частицы, что, разумеется, делало их поиск нелегким делом.
В существовании гравитационных волн мало кто сомневался как минимум последние 60 лет, с тех пор как идеи Эйнштейна плотно вошли в научный мейнстрим: теория относительности настолько удачно описывает окружающую реальность и подтверждается таким количеством гипотез, что подтверждение еще одного из ее предсказаний выглядело вопросом времени. А вот с бозоном Хиггса ситуация была иной: эта частица вошла в Стандартную модель, описание кирпичиков, из которых состоит окружающий нас мир, а также их свойств и взаимодействий. Но Стандартная модель – не стройная теория, а у механизма, предложенного Хиггсом и его коллегами для объяснения массы, были другие, хотя на вид и менее убедительные альтернативы. Словом, бозон Хиггса вполне мог и не существовать. Причем некоторые физики надеялись, что именно так и обстоят дела. Впрочем, чтобы ответить на вопрос существования бозона Хиггса “да” или “нет”, нужно идти по одному и тому же пути: разгонять частицы (например, протоны) до околосветовых скоростей и сталкивать их друг с другом. Таким же образом, среди продуктов столкновений, были найдены и многие другие теоретически предсказанные частицы, но про бозон Хиггса было известно, что если он существует, то это довольно тяжелая (относительно других) частица, а значит, он может “появиться” только в столкновениях очень высоких энергий.
К началу второго тысячелетия построение Стандартной модели было в общем завершено, а все ее составляющие обнаружены экспериментально. Кроме одной – бозона Хиггса. Он стал предметом своего рода обсессии, о его поиске заговорили как о главной задаче физики элементарных частиц. В 1993 году у бозона Хиггса даже появилось громкое прозвище – “частица Бога”. Его ввел в своей популярной книге “Частица Бога: если Вселенная – ответ, то что есть вопрос?” американский физик Леон Ледерман. “Этот бозон играет настолько центральную роль в современной физике, он настолько важен для понимания структуры материи и в то же время так неуловим, что я решил назвать его частицей Бога. Почему Бога? Во-первых, издатель не согласился бы на “частицу дьявола”, хотя это название подошло бы еще лучше, учитывая злодейскую природу этой частицы и то, сколько на нее тратится денег. Во-вторых, я намекаю на другую книгу, намного более старую, чем моя”, – писал автор.
Примерно тогда же самый мощный среди своих современников американский ускоритель Теватрон достиг энергий столкновений, которые теоретически позволяли рассчитывать на поимку “частицы Бога”. Но с этой задачей Теватрон не справился и в 2011 году был остановлен. Конечно, поводом для остановки была не неудача с бозоном Хиггса, а появление более мощного конкурента: через два месяца на границе Швейцарии и Франции, в том самом ЦЕРНе, где за много лет до этого Паули прочитал телеграмму Райнеса и Кауэна, заработал Большой адронный коллайдер, ускоритель, энергия частиц в котором была в 10 раз выше, чем в Теватроне.
Полтора года спустя, 4 июля 2012 года, на специально созванной в ЦЕРНе пресс-конференции было объявлено об обнаружении новой частицы с массой между 125 и 127 ГэВ. Участники эксперимента осторожно назвали ее “претендентом на роль бозона Хиггса”, хотя последующие эксперименты убедили большинство скептиков, что была найдена действительно “частица Бога”, а не что-нибудь экзотическое, никем до этого не предсказанное.
В ЦЕРНе было открыто несколько ящиков дорогого французского шампанского (одна из пустых бутылок выставлена сейчас в музее института), Питер Хиггс, а также еще один представитель группы физиков, предложивших ту же теорию, Франсуа Энглер, были удостоены Нобелевской премии 2013 года. Открытие частицы спустя почти полвека после ее предсказания было очередным доказательством мощи человеческого разума. Впрочем, физики были одновременно рады и немного разочарованы. Обнаружение бозона Хиггса доказало состоятельность Стандартной модели, внесло последний кирпичик в ее основание. Но ученые почти всегда предпочитают появление новых загадок разрешению старых.
Чего мы ждем теперь?
Исторически способность человека предсказывать устройство природы силой разума и открытие новых законов с помощью наблюдений за окружающим миром соперничали на равных. Иногда теория обгоняла эксперимент, иногда, наоборот, теоретикам приходилось искать объяснения обнаруженным экспериментаторами явлениям. В последние годы положение дел в физике стало меняться. Во многих областях, таких как космология и физика элементарных частиц, мы зашли в понимании устройства Вселенной так далеко, что для дальнейшего экспериментального проникновения нам попросту не хватает технологий. Из красивых теорий, ждущих своего экспериментального подтверждения, выстроилась уже целая очередь. Это – инфляционная теория, согласно которой в первые мгновения своего существования Вселенная очень быстро расширялась (в позапрошлом году, как казалось, подтверждение было получено, шампанское было открыто, но всему помешала пыль). Это – поиск новой физики элементарных частиц за пределами Стандартной модели (в декабре 2015 года на Большом адронном коллайдереполучены некоторые намеки на подобные феномены). Это – объяснение природы темной энергии и темной материи, о существовании которых мы судим по косвенным признакам. Гравитационные волны обнаружены, что ж – “свободная касса!”.
Сергей Добрынин SVOBODA.ORG
НОВОСТИ РУССКОГО НЬЮ-ЙОРКА США –
Манхеттен Бруклин Квинс Статен Айленд Бронкс Нью-Джерси

Отправить ответ